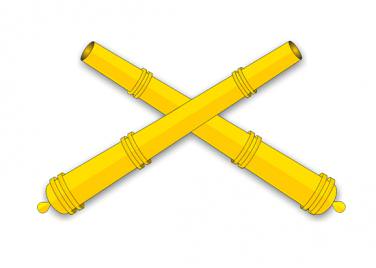Мазья Григорий Эльконович
орденами Отечественной войны 1-й степени, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалью "За Отвагу" и др. медалями.
лейтенант
старший лейтенант
капитан
майор
подполковник
заместитель командира 1-й батареи 120-мм ОМД 110-й отдельной стрелковой бригады
командир батареи 76-мм пушек 807-го стрелкового Самборского полка 304-й стрелковой Житомерской Краснознаменной дивизии
Григорий Эльконович Мазья (1912-1990) родился в Могилеве. Еврей. С 1928 г. жил в Ленинграде. После окончания рабфака работал на ленинградских предприятиях. Участник финской кампании. Во время Отечественной войны — командир взвода, дивизиона, батареи. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу». Подполковник запаса, инвалид войны.
После демобилизации работал главным механиком на различных предприятиях Ленинграда.
В нашей книге мы публикуем воспоминания сына Г. Э. Мазьи, Марка Григорьевича.
Жил, как воевал: от смерти не бегал
Мой отец не любил рассказывать о войне. Вот про коня своего Ковшика вспоминал охотно. Маленькому, мне казалось, что Ковшик чуть ли не умел летать, и я был почему-то уверен, что папа катал на нем маму, когда приезжал к ней в Тобольск, в эвакуацию. Мама жила там с сестрой и бабушкой, работала в какой-то конторе в бухгалтерии. Однажды прибегает к ней на службу Женя, моя двоюродная сестра, кричит: «Тетя Оля! Бегите скорее домой, к вам дядя Гриша приехал!»
Мама в чем была, только платок накинула, бросилась домой. А бежать ей надо было в гору. На дворе зима, холод, бежать скользко, а папа навстречу — красивый, в форме с офицерскими погонами. Было это в 1943 году. Выпала среди горя счастливая минута.
Еще папа рассказывал, что был у него визави один немецкий комбат, с которым они друг против друга долго стояли. Оба они воевали крепко, но однажды договорились помыть своих завшивевших в окопах солдат. Папе круто влетело за ту баню, но он был доволен, что солдат помыл.
Из чего складывается война? Я не был на ней, я родился после — по эту сторону жизни. Но она жила и живет во мне. Тем, как иногда кричал папа по ночам — это ему война снилась, и он снова шел в атаку или отбивался от немцев. Раз, когда я стал будить его, то еле успел увернуться от тяжелого папиного кулака — ему показалось, что враг прыгнул к нему в окоп... Я помню ее по сохранившимся орденам отца. Их было много, папа показывал мне орденские книжки, самих же орденов было гораздо меньше. Раненный, добираясь домой из Германии, он выменял их на спирт и на еду: иначе б не доехал, не дошел на своих костылях. Сохранившиеся я как-то нашел в дровяном сарае. Может быть, какие-то из этих красивых железок я, маленький, затерял или изломал. Помню, многие годы спустя, его вызывали в военкомат получить орден, кажется, за Бобруйскую операцию. «Награда нашла героя». Он не поехал:
— Ну их! Я болен, надо еще рубь сорок за бляху платить. Жалко. Я кровь проливал не за рубь сорок...
Чушь! Фантастика! Воспитанный в духе советского фетишизма, я не мог его понять, злился. Ведь так хотелось, чтоб у папы на пиджак, и так достаточно тяжелый, еще добавилось. А он уже не мог перешагнуть какой-то важный, только им видимый рубеж, за которым была фальшь, показуха, не истинная благодарность родины к сыну, а мишура, игра в побрякушки (мы все с отвращением вспоминаем эти игры), любовь напоказ. Когда уже в наши дни явились на свет материалы о незахороненных до сих пор солдатах, папа ужасно переживал, не хотел верить, что такое может быть. Тогда-то я и понял его, понял, почему он «пожадничал» и не поехал получать заслуженную боевую награду.
Кстати, любопытно, что из всех своих многочисленных орденов и медалей папа пуще всего ценил солдатскую медаль «За отвагу», полученную им в сорок первом году под Москвой.
Я был мальчишкой. Я играл в войну, совершал боевые подвиги, преклонялся перед героями тех великих баталий: Алексеем Маресьевым, Зоей Космодемьянской, Александром Матросовым, молодогвардейцами... И сейчас преклоняюсь, какие бы уточнения не вносила в образы этих людей современная историческая наука. И, конечно же, мой папа для меня стоял рядом с ними.
До сих пор перед глазами год 52-53-й. Папа приходит с работы. Тяжело стаскивает с ноги разбухший валенок, носки, поставив ногу на стул, засучивает брюки, кальсоны. Перед глазами красное месиво. Папа, морщась, ковыряется в нем руками, что-то кричит маме — наверное, поторапливает, чтоб несла воду — достает маленький, крошечку, блестящий кусочек. Это через годы после войны у него из ноги идут осколки. Икра правой ноги у него всю жизнь напоминала перекрученный, оплавленный взрывом кусок металла.
Смотреть фильмы про войну, читать о ней книги папа не любил. И не потому только, что их художественная правда зачастую отличалась от его жизни на войне. Но и потому, что они тревожили его. Он переживал, не спал после них ночами. Война, казалось, и через десятилетия не отпускала его, приходила какими-то неясными страхами, ночной бессонницей. В такие минуты у него прорывались отдельные рассказы-воспоминания.
Однажды он, увидев по телевизору очередной победоносный залп «катюш», припомнил, как его артиллерийский взвод накрыли свои «катюши», как летели в воздух руки, ноги, обломки берез, орудийных стволов, как вжимались они в землю и мало кто нашел спасение. Удивительно, в этом рассказе звучали горделивые нотки за мощь советского оружия, страшную силу смерти, что несли врагу гвардейские минометы.
Или другой рассказ — о битве под Москвой.
Перескажу так, как запомнился он мне, десятилетнему мальчишке, не ручаясь за историческую точность. После ранения отец попал в тот самый сибирский корпус, что в срочном порядке был сформирован и послан на зищиту Москвы. Корпус инспектировал Клим Ворошилов. (Почему-то мне казалось, что он гарцевал на знаменитом папином Ковшике.) Корпус был плохо подготовлен, сформирован наспех, и «первый красный офицер», не сходя с коня, как рассказывал папа, покарал командира и начальника штаба. Он предсказал, что корпус разобьют через два часа боя. Разгневанный маршал ошибся: они продержались дольше.
А еще вспоминал папа, как там же, под Москвой, вооруженный до зубов: пистолет, гранаты у пояса, трофейный шмайссер — стоял он в охранении, а мимо длинной вереницей тянулись старики-ополченцы, солдаты гражданской войны, старые партийцы, уцелевшие от сталинских чисток. Плохо обмундированные, вооруженные одной трехлинейкой на троих, шли они к фронту.
— Как же вы воевать собираетесь? Вас же перебьют!
— Ничего. Его убьют — я возьму винтовку, за меня вот он.
И пронзительная, до краев стыдная фраза:
— Мы Россию завоевали, а вы ее просераете! Видно, уж придется помочь вам, молодым.
Там, под Москвой, в декабре 1941 года вступил отец в партию. Для него, как и для многих его товарищей, она не была той страшной, по своей кровавой сути преступной организацией, о которой мы узнали через десятилетия; их воодушевлял тот же порыв, каким дышит известное межировское стихотворение «Коммунисты, вперед!». Что ж, порою «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман».
В декабре сорок первого на передовой отец понимал, что еврей-коммунист — двойная мишень для врага, но поступить иначе он не мог. И как множество рядовых партийцев, он кровью платил за стремление быть впереди.
Там во время боя пришлось ему отступать и оставить на высотке, на поле боя, два орудия, не успев даже вывести их из строя. За это его чуть не расстреляли, и только чудо спасло отца: расстрел заменили штрафбатом. Там, под Москвой, получил он медаль «За отвагу» и осколок под сердце. След его под левым соском остался на всю жизнь. Так его и похоронили в 1990 году с этим куском металла в груди.
А может быть, рану под сердце он получил позже: под Сталинградом, под Курском, под Берлином? А под Москвой была другая — в живот? Я в детстве знал: когда мы с папой балуемся, живот трогать нельзя.
Был он человеком очень здоровым, огромной физической силы (говорил, что молодым коня поднимал, а я помню, как в 50 лет, строя дачу, один мог взгромоздить на место здоровенное бревно). Человек он был жесткий, волевой, властный. И, конечно, среди его солдат могли найтись им обиженные. Но он гордился тем, что он, командир, еврей, не получил пулю в спину. Такое бывало на войне. Гордился, что как бы ни складывались обстоятельства, ни разу не оставили солдаты его раненым на поле боя, не слышал от них «жида». Наверное, потому еще, что в их штурмовых частях («Несколько часов боя — несколько недель в госпитале», — говаривал отец) могли воевать только люди, доподлинно знавшие, кто есть кто, и уже не раз видевшие в лицо настоящего врага.
Смотрю на фотографию. Худой, бородатый (отец на моей памяти бороду не носил, и в детстве я не узнавал его на той фотографии), с глубоко запавшими глазами, в госпитальной пижаме. На обороте полустершаяся карандашная надпись: «Олюшка! Смотри, во что превратили меня проклятые фашисты. Но я буду бить их насмерть и мстить, мстить! Целую, Гриша».
У отца было два брата. Он, младший, ушел на войну. Средний отправлен был за Урал поднимать там новый завод. Старший остался работать в осажденном Ленинграде. Здесь он и погиб во время бомбежки, эвакуируя рабочих из цеха. Рассказывали, что взрывной волной сорвало с места напильник, и он убил моего дядю Фиму. В блокаду от голода умерли их родители, сначала мой дедушка, а потом и бабушка, не пожелавшая, как гласит семейная легенда, остаться одна. В эвакуации от воспаления легких умер четырехлетний сын — мой старший брат Юра. Так что поводов для мести было больше чем достаточно. Я уж не говорю о той его родне из Белоруссии, которая осталась под немцем.
Вероятно, нечто подобное может сказать о своих семьях множество моих сверстников. Так вот жили наши отцы — от судьбы не бегали, под смертью ходили. Да и как от судьбы убежишь?
Однажды сбежал. Так случилось, что во время боя отец был контужен и оказался у немцев.
— И тебя не убили? Ты же еврей? — с замирающим сердцем спрашивал я.
— Не успели. Я был офицер, мы давно стояли друг против друга, и им, естественно, хотелось допросить меня. У меня времени было около суток.
Терять было нечего: и так убьют, да сперва еще мучить будут. Он ушел в одних кальсонах через выгребную яму клозета, оставив торчать в ней головой вниз немца-конвоира. По счастью, в передовых частях полицейские функции исполнялись, видимо, плохо. Дома отца три месяца проверяли. Не продал ли этот еврей-офицер свою родину фашистам за те несколько часов, что был в плену? Уж больно неправдоподобно все выглядело: контузия, то, что сразу не пристрелили, побег. Разумеется, проверять было нужно. Только мне, человеку сугубо штатскому, непонятно: что, кроме пули, могли предложить еврею-предателю фашисты. Ну да ладно! Свою «вину» он искупил кровью на передовой.
Пишу не затем, чтобы утвердить среди героев имя своего отца. Папа, бесспорно, был тщеславен. Но гордился не военными заслугами. Он мне показывал в Ленинграде дома, гордо заявляя: «Я их строил». Радовался, когда на лад шло дело в цехе, которым он руководил. Всю жизнь он работал в промышленности на малых и больших заводах нашего города. Начальник участка, начальник цеха, главный механик. Вероятно, был человек для начальства не самый удобный, неуживчивый, но дело свое знал досконально. Он и на станке любом работал по высшему разряду, и командовать умел, и учеников после себя оставил. Его на ленинградских заводах многие помнят.
Папа все делал честно и хорошо, как и воевал. Он, говоря словами А. Т. Твардовского, «честно тянул свой воз».
Я прочитал эти несколько страничек своим сыновьям.
— Напиши еще, что дедушка был очень добрый, — попросили они.
У папы был трудный характер. Он умел требовать с других, но и себе пощады не давал. Он умел быть жестоким, но умел любить, жить для других — для дела, для нас, его детей и внуков, для победы над врагом. Всегда умел приворожить детей. Видно, это уменье — его доброту — и чувствовали все, кто сталкивался в жизни с моим отцом.